2025-01-12 13:48:32
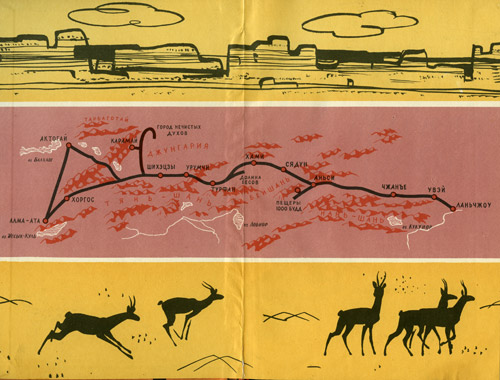
2025-02-11 16:49:09
Это была одна из первых геологических экспедиций, направленных молодой советской властью в Центральный Казахстан — «Киргизскую степь», как тогда говорили, где до революции и еще при Колчаке действовали горные предприятия английских концессионеров, выросшие на богатых рудах, дешевом местном топливе и труде казахской бедноты.
Я попал в нее благодаря счастливому стечению обстоятельств, потому что в начале нэпа трудно было получить работу; к тому же я был студентом Географического института (Географический институт возник на базе дореволюционных Высших женских географических курсов, просуществовал до 1926 г. и был преобразован в географический факультет Ленинградского университета), а не геологического вуза, заканчивал первый курс и только лишь прошел основы географии, геодезии и общей геологии, да сдал практикум по глазомерной съемке.
Начальника экспедиции, когда я пришел наниматься на работу, подкупили не столько мои успехи в географических науках, сколько моя выправка и автобиография, в которой значилось, что я служил радистом в кавалерийской рации. Узнав, что я на практике знаком с уходом за лошадьми, начальник — молодой флегматичный инженер-геолог — предложил мне должность рабочего при конях, намекнув, что, поскольку я географ, постольку буду и топографом, и фотографом, и коллектором, и «вообще всем тем, чего потребуют интересы экспедиции».
— Придется поручить вам, — добавил он, — и самостоятельные маршруты и обязанности доверенного лица в мое отсутствие по делам разведки. Предстоит огромная работа, а средств на нее отпустили так мало, что я не могу оплачивать коллектора. Это продолжение моих геологических исследований на юге Киргизской складчатой страны, не законченных в 1921 г. из-за басмачества в верховьях Сарысу.
Несмотря на предложенные мне по должности рабочего 30 рублей в месяц, я вышел от инженера с большим подъемом, потому что 30 рублей — не 6 рублей студенческой стипендии, а главное — экспедиция в неизведанные земли, о которых я мечтал в детстве и которые представлял то девственными прериями Майн-Рида, то дикими пустынями Свен-Гедина. Орлы, тарантулы, мустанги, руины мертвых городов в песках, заброшенные серебряные копи, золотые жилы и, наконец, чем черт не шутит, — стычки с басмачами! Так рисовалась мне Киргизская степь за параллелью законсервированного Успенского рудника, ограничивавшей с севера район исследований, порученный Геологическим комитетом моему начальнику, — район, переходивший к югу в полупустыню Северо-Западного Прибалхашья, за которой простиралась Голодная степь — пустыня Бед-Пак-Дала.
https://www.geolmarshrut.ru/antologiya/?ELEMENT_ID =1849
2025-02-11 16:50:04
12 июня
Вот я и в Семипалатинске — впервые в настоящей Азии! За рекой Киргизская степь и на горизонте синие вершины далеких гор.
Остановился над Иртышом у мещанина-огородника, который, приняв меня за представителя центральной военной власти, стал жаловаться на прижимки со стороны «националов», как он называл казахов — хозяев края.
Город похож на огромную сибирскую деревню с той лишь разницей, что на улице скорее встретишь козу и верблюда, нежели корову и свинью. Широкие немощеные улицы, обставленные саманными и деревянными домами, редкие прохожие, казахи в малахаях, песок, в котором вязнут ноги, и пыль, пыль и пыль...
Проходя через базар, увидел «шалманы» («Шалман» — распространенное во время нэпа название кабаков и пивных низшего разряда) с кумысом и, так как было очень жарко, зашел попробовать напиток, о котором шла такая слава.
Когда юркий купец-татарин подал мне расписную фарфоровую чашку (кисе по-местному) объемом больше полулитра, я было запротестовал, что это очень много. — Это же совершеннейший пустяк! — возразил с обворожительной улыбкой купец-татарин. — Сразу видно, что товарищ командир из центра! Полюбуйтесь-ка на этих почтенных молодцов!
Я оглянулся и увидел на полу за низким круглым столиком четырех стариков-казахов в огромных малахаях, начинавших новую бутыль; три порожних четверти стояли рядом.
Я приободрился и, хотя принялся за кумыс с брезгливой осторожностью, все же выпил кисе до дна, правда, с передышками. Напиток оказался холодным, приятным, кислым и чуть хмельным. Мне стало сразу веселее.
В «шалмане» было вообще нескучно. За другим столиком налево расположилась еще четверка не то татар, не то казахов в европейском платье. На полу стояли порожние бутыли, а на столе красовалась деревянная золотистая лакированная миска обглоданных костей. В стороне, откинувшись к прилавку, сидел на корточках старик и, закрыв глаза от наслажденья, вытягивал высоким голосом восточную мелодию, дергая за струны домбры.
На стенке, против входа, висел портрет Ленина на середине большого пестрого ковра.
Мозолили глаза два белых плаката. На одном стояла надпись, выведенная кривыми буквами: «кредета нет», подкрепленная тремя восклицательными знаками, а на другом — надпись по-казахски, но без восклицаний.
Потом я убедился, что такие плакаты украшали все «шалманы», куда я заходил, и к удивлению заметил, что почти везде купцы отпускали «в кредет», но, по-видимому, надежным кредиторам, так что надпись вывешивалась скорее для пущей важности, в качестве патента на солидность предприятия.
2025-02-11 16:51:25
Начальник проскользнул вперед и, сидя на берегу в стороне от потока подвод, верховых и пеших, стремившихся с парома на дорогу, лущил семечки и поглядывал на нас, иронически качая головой.
Едва ли не последними съехали и мы. Стали подниматься по откосу. Первой двинулась подвода Джуматая, которую облюбовал себе начальник, погрузив в лозовый короб самый деликатный груз: палатки, чемоданы, печеный хлеб, ящик с гастрономией. Я потянулся следом. На мой ходок положили самый тяжелый и по сочетанию предметов самый неудобный груз: муку, овес, мешок сушеной воблы, бидон с бараньим салом, лагушку дегтя, казан для баурсаков (Баурсаки — вареные в бараньем сале пшеничные галушки), проволоку, горный инструмент, палаточные колья. Все это, перевязанное наспех, звенело, бренчало, грохотало, пугая моих «мустангов». Они то кидались в сторону, то становились. Требовался кнут. Я стал шарить на возу, заглянул под ходок, осмотрел дорогу — нет кнута!
— Стегните их, как следует! — послышался нетерпеливый окрик инженера.
— Чем стегать?! Кнут украли!
Начальник рассердился и в первый раз наговорил мне обидных комплиментов, припомнив и пробитый кузов. Обиднее всего было то, что Джуматай подал мне подобранную с дороги уродливую хворостину, растянув при этом свое широкое прыщеватое лицо не то в сочувственную, не то в насмешливую улыбку.
Поднявшись на дорогу, мы увидели перед собой море луж и грязи недавнего разлива, развернувшееся на добрый десяток верст. Нечего было и думать садиться на возы. Потащились около телег, хлюпая по жиже. Сухая хворостина скоро обломалась, и я вырезал из придорожного куста свежую, большую, но, когда пробирался к тальнику, набрал воды в ботинки..
На 12-й версте, уже перед самым выездом из разлива, воз Джуматая странно замер на ровном месте, покосившись набок. Начальник с Джуматаем засуетились у задка кузова: первый размахивал руками, а второй приседал на корточки и ковырялся под телегой. Когда я подтянулся к ним, начальник кипятился, а Джуматай водил черным от дегтя пальцем по свежему разлому лопнувшей оси и качал головой, прищелкивая языком.
— Ось сломалась? — участливо спросил я, присев у кузова.
— Ломался!.. — вздохнул Джуматай. — Совсем ломался! — и понес скороговоркой: — Дорога тижыло, телега тижыло, ось диривьянный... Совсем джаман! Железный надо! Зачим купил диривьянный?
— Не твое дело, — буркнул начальник. — Какая есть, на такой и езжай, а не ломай. Что теперь делать?!
— Мастер надо, поселка айда! — махнул Джуматай на низенькие хаты далекого поселка, видневшиеся из-за кустов.
Выпрягли лошадей и отпустили на траву. Джуматай остался караулить, а мы отправились в поселок.
За ось в поселке заломили такую цену, что начальник крякнул. Проезжие инженеры! Редкий случай!
Через три часа ось была готова. Я взвалил ее на плечи, и мы потопали назад.
— Слава богу! — облегченно вздохнул начальник, когда покинули поселок. — Дешево отделались!.. Придем, напьемся чаю и покатим так, что пыль закрутится!
Пришли... Возы на месте, над тлеющим костром горячий чайник, а коней и Джуматая нет. Глянули на степь, поднимавшуюся на горизонте низкими увалами, и вот картинка! По ярко-зеленому полю молодой пшеницы мечется пятерка лошадей, за которой гоняются две фигурки конников. Начальник схватился за бинокль и ахнул: — Это же наши кони! Крестьяне гонят их в поселок!
Вскоре, звеня и лязгая путами, подскакала наша бойкая пятерка, а следом пара верховых.
— Что же это такое господа-товарищи! Как же это получается! Где же видано коней пускать в пшеницу! — кричали разъяренные поселяне. — Сколько хлеба потравили!.. Страсть! Хлеб вить трудовой! Жалованья нам не платят!
Кричали поселяне, кричал начальник, кричал красный мокрый Джуматай, который приплелся следом.
— Это все Игреня! — оправдывался Джуматай. — Мы телега караулим, лошадь караулим, шай варим... Смотрим, нет лошадь! Куда пошел, язви его! Смотрим, Игреня пшеницам ходит, пирод ходит! А все конь задом ходит! Ай шшай-тан, паршивый шорт!
Потом Джуматай признался мне, что он «мало-мало» спал под телегой, а когда заметил лошадей в пшенице, было уже поздно — из поселка мчались верховые.
Поселяне расходились: требовали уплаты 25 рублей, грозили понятыми, задержкой лошадей, судом.
Время шло... Начальник не давал 25 рублей — да и за что давать!.. — грозил жаловаться на самоуправство, на задержку важной экспедиции, показывал мандат.
Меня вдруг осенило...
— Знаете, что землячки? Давайте сперва чайку попьем! Потому, как вы умаялись, гоняючись за конями, да и мы с утра ничего не ели, а тут еще на вашей же дороге ... гляньте, — указал я на осевший воз, — несчастье получилось. Десятку уплатили вашему Семену — за что? Давайте слазьте!.. Чай у нас первый сорт — кирпичный, опять же калачи, сахар, масло... Живее Джуматай!..
Сначала земляки упирались, но заметив на возу красногвардейскую шинель и дуло карабина, выглядывавшее из-под сиденья, стали мяться, а когда Джуматай, разостлав брезент, поставил чайник, насыпал сахару и положил три свежих румяных калача, слезли с коней. Трудно было устоять против сахара и чая, самого дефицитного теперь товара во всей республике.
За чаем земляки отмякли; оказались в самом деле земляками — выходцами из той же, что и я, Виленской губернии, и с 25 рублей спустили до 10 и даже помогли поставить ось и увязать возы. При расставании просили непременно завернуть в поселок в гости, когда поедем обратно в Павлодар.
2025-02-11 16:52:39
Степь совсем гористая. Перед нами в 20 верстах голубовато-серый, как в дыму, гранитный гребень Баян-Аульских гор, закрывший весь мелкосопочник на юго-западе. Я испытываю чувство радости и гордости при виде настоящих гор. Это не гранитные возвышенности Фридрихсгамма (Фридрихсгамм (ныне Хамина) — финский порт на северовосточном побережье Финского залива. В 1915—1917 гг. в нем размещался 2-й пехотный запасный батальон русской армии, в котором служил автор), по которым я маршировал восемь лет тому назад в запасном батальоне!
Я набрасываю эти строчки, прислонившись к возу, Джуматай поит коней у колодца, а начальник строчит в клеенчатой тетради — «неофициальном дневнике», поглядывая, как мы справляемся с работой. Пишу в минуты передышек на привале, а то и в дороге — на возу, и оттого дневник мой краток.
Только что пережили неприятную историю.
Джуматай возился с конями, а я пошел сооружать костер. Порубил черные, пропитанные дегтем концы злополучной оси, подбросил кизяку, зажег и только повернулся за водой, как позади вдруг затрещало, зашумело, загудело...
— Горим! Воды! Скорее!.. — кричал начальник.
Я оглянулся. От костра бежал по ветерку, заливая пышный лог, поток огня — бежал от обоза вниз и краями уже облизывал оглобли.
На помощь бросились казахи. Одни помогали оттаскивать возы, другие, похватав кошмы и брезенты и помочив их в колодце, шлепали ими по языкам огня. Поток огня двигался по руслу лога, потом, поднявшись по склону сопки, разлился ручейками и замер у вершины. Чуть в стороне стояли два стога сена, и, если бы не помощь казахов, огонь добрался бы до сена — и тогда нам не миновать серьезных осложнений с хозяином пикета.
Пожар произошел по моей неосторожности, по неопытности. Надо было сначала подготовить место для костра — обвести его канавой и убрать поблизости траву, потому что сухие степные травы вспыхивают даже от окурка, спички, и пожары гуляют потом по степи неделями. Но откуда было знать об этом мне, выходцу из районов влажного умеренного климата Европейской части СССР!
Казенное имущество не пострадало. Пострадал лишь я один, когда босой сунулся в огонь спасать свои ботинки.
И вот теперь я смазываю бараньим салом волдыри на пальцах ног, а начальник держит бинт и читает мне нотации.
2025-02-12 11:30:09
CorvusCorax
Так же и в Ташкенте в конце осени. А рядом уже снежный Чимган.
Погрузка винограда в Кишинёве:

Было когда-то, свежие фрукты возили самолётами.
2025-02-15 14:15:50
Было когда-то, свежие фрукты возили самолётами.
Sunspot
В том числе и на Байконур, как раз на Ан-12. Из Кишинёва, Ташкента, Ферганы, Душанбе.
2025-02-15 14:16:53
Продолжение:
27 июня
Вот глухая ночь, глухие сопки под мерцающими звездами и наши две подводы, да телеграфные столбы на глухой дороге. Я клюю носом и вздрагиваю от толчка, подхватывая на лету фуражку. В узком кузове негде лечь, разве только с риском свалиться на дорогу. Это не лозовый короб, в котором начальник спит, как в люльке.
Куда прислонить голову, которую неудержимо тянет вниз! Я наматываю вожжи на руку, опускаюсь на казан (Казан — большой чугунный мелкий котел) и отдаю себя на волю лошадей, которые трусят за Джуматаем, подбадриваемые топотом и фырканьем передних коней.
— Го-го-го!.. — доносится издалека.
— Го-го-го!.. — бросаю я в потемки, в которых вспыхивает бледный свет фонарика. Он плывет ко мне и слышатся сердитые выкрики начальника:
— Ну и Джуматай! Опять проворонил столбы, раззява!..
— У вас столбы?! — бросает он, раскачивая снопик света над головами лошадей.
Сонный Джуматай снова пропустил телеграфные столбы, которые отскочили в сторону от тракта и покатил по «свертку».
Я соскакиваю с воза, и мы бредем, ощупывая фонариками пыльную дорогу, степь, перепуганных тушканчиков, опускаемся на корточки, не мелькнет ли над горизонтом линия столбов, прислушиваемся, не загудит ли проволока.
Еще полверсты, и под ногами ровная широкая дорога, которая круто поворачивает в гору. Тракт! Сейчас столбы!
Подымаемся на перевал, шагаем бодро вниз и... Что за наваждение!.. Перед нами на дороге воз — мой воз, от которого пошли искать столбы!
Я свечу фонариком, а начальник визирует компас на перевал, на небо, на голос Джуматая.
— Это совсем не тракт, а «сверток», который идет черт знает в какую сторону, может быть на, Экибастуз или на Майкаин! Тракт должно быть вон где! — показывает начальник на юго-запад. — Давайте, дернем прямо наперерез столбам!
Кричим Джуматаю. Тот поворачивает, и мы «дергаем» по целине.
Возы скрипят, качаются, коренники тяжело вздыхают, пристяжки дергаются в сторону. Лозовый короб вдруг оседает влево, и тройка топчется на месте — Джуматай попал задним колесом в колдобину.
Начальник подводит плечо под правый угол экипажа, я — под левый, а Джуматай, соскочив, с воза, замахивает длиннущий кнут: — Раз! Два!.. — Мы нажимаем... — Три!.. — И колесо выдергивается, но одновременно раздается треск — лопается валек под левой пристяжной.
Я забираюсь на ходок и, уронив голову на казан, вздыхаю с облегчением: «Слава богу!.. Теперь хватит Джума-таю канители на добрый час...»
Кажется не проходит и пяти минут, как уже кричат над ухом, дергая меня за ногу:
— Товарищ географ!.. А, инженер-географ!.. Поехали! Я поднимаю сонную тяжелую голову и первое, что попадает в поле зрения, — это цепь столбов над волнистым горизонтом в бледном небе, но не на юго-западе, куда мы «дергали», а на востоке.
Вот и тракт, около которого и на котором мы крутились. Подводы тянутся по дороге в гору, и мы плетемся рядом.
Я шагаю, поклевывая носом, и чувствую, выскальзывают вожжи. Подбодриться, что ли! Закладываю вожжи за рукоятку кирки, высунувшейся из ходка, и берусь за трубку, но бодрости хватает только на время перекура. Сон одолевает так, что хоть падай на дорогу. «В самом деле, может, лечь в траву, а там, покуда хватятся да прискачет Джуматай, посплю? Третья ночь без сна!..»
2025-02-15 14:17:25
Спасский завод. 250-верстный путь от Баян-Аула оказался более интересным, но и более тяжелым, чем до Баян-Аула. Поднялся выше мелкосопочник, показались синие вершины гор, появились аулы и русские поселки.
Тащились шестеро суток, когда по накатанной дороге, когда по проселку, а когда и по целине, и с сожалением вспоминали Павлодарский тракт. По ночам плутали, ложились спать не евши, без воды. На третий день вышел хлеб.
Поселки, в которых останавливались по дороге, когда-то богатейшие, на сотни хат, представляли грустную картину безлюдья и запустения. Некоторые хаты стояли без стекол и дверей, зияя черными отверстиями. Повсюду одни и те же разговоры: «Богатеи выезжают за Урал — в Расею, а беднякам не на что подняться». «Раньше засевали 30—40 десятин, а теперь 1,5—2». «Пахать не на чем, волов побрали... да и ни к чему!» «Везде прижимки!»
«Скотину в степь не выгнать — сейчас своруют». Когда спросили хлеба, поселяне засмеялись, замахав руками: «Что вы! Что вы! какой там хлеб! С самой Пасхи нету!»
Живем в заводской конторе, которую нам уступил управляющий заводом В. Н. Миловидов, вернее, управляющий охраной законсервированного медного завода. Наслаждаемся отдыхом, копаясь днем в архиве, а вечерами распиваем чай и слушаем увлекательные рассказы управляющего — старого степного волка, рассказы о деятельности англичан, у которых он работал, о былых порядках на заводе, Успенском руднике, нравах населения и современной ситуации в степи. Вот краткие данные из истории завода, почерпнутые из архивных документов.
В 1852 г. компания русских предприимчивых купцов (Рязанов, Ушаков и др.) купила у казахов участок нынешнего завода площадью 100 квадратных верст за 228 рублей, а в 1902 г. продала его с заводскими сооружениями и рудником французскому горному инженеру за 776 тысяч. Три года спустя инженер продал предприятие английской акционерной компании за еще большую сумму. Компания построила в 1907 г. новый завод, который, по словам Миловидова, давал огромные дивиденды и кормил на сотни верст казахскую бедноту. Главный заработок составляла перевозка руды с Успенского рудника за 115 верст и угля с Карагандинских копей за 45 верст, до которых англичане провели узкоколейную железную дорогу, сохранившуюся и поныне.
Теперь все это огромное предприятие гниет, ржавеет, рассыпается и разворовывается. Охрана, управляемая Миловидовым, не в состоянии бороться с воровством, несмотря на пребывание на заводе отряда ЧОН (ЧОН — части особого назначения. Были созданы в период гражданской войны (в 1918—1920 гг.) для борьбы против контрреволюции).
И Миловидов, и все, с кем приходилось сталкиваться на заводе, говорят о неспокойной ситуации на 48-й пустынной параллели — южной границе нашего района, куда заходят вооруженные шайки Баранкула, оперирующие на стыке Акмолинской, Тургайской и Сыр-Дарьинской областей.
Сам командир ЧОН признался, когда мы пришли к нему за сведениями, что воровство лошадей и грабежи — нередкое явление даже в окрестностях завода, и в конце беседы заявил, что не пустит нас в дорогу без конвоира и двух винтовок.
2025-02-21 14:14:11
Утром отправились знакомиться с результатами разведки. Около шурфа, над которым возвышался старый вороток, нас уже поджидали десятник и забойщики.
Начальник приказал отцепить бадью и спустить кирку. Парфенов развернул барабан и когда подтянул веревку, у рукоятки кирки показалась пестрая гадюка, которая скользнула в темноту. Раздался плеск...
Вода поднялась уже на целый метр. Дальнейшая проходка представлялась затруднительной даже помимо змей. Оставалось только осмотреть стенки выработки, да зарисовать, где руда.
Начальник нахлобучил на уши фуражку и, подняв воротник куртки, показал Парфенову на тяжелую бадью.
— Плюньте, товарищ инженер! Не лазьте! Я и без рисованья покажу, как идет руда. А то неровен час...
— Бадью! Фонарик!.. — приказал начальник.
Я подал электрический фонарик, и мы, столпившись у шурфа, глядели, как он шагнул в бадью и как, сжавши рукоятку молотка, стал опускаться в сырую темную квадратную дыру.
Вот белый верх фуражки уже над третьим метром...
— Стоп! Держи!.. — услышали мы глуховатый голос и вслед — брань и стук по дереву, по камню.
Я нагнулся над отверстием и увидел яркий сноп фонарика, скользивший по деревянной редкой крепи, мелькание омерзительных жгутов между пластин, молниеносные взмахи молотка, стремительные повороты головы сражавшегося... Кто ожидал от начальника такой прыткости и смелости!
— Ай, шшай-тан! — изумлялись старые забойщики, прищелкивая языками и перескакивая с одной стороны шурфа на другую.
— Ну и вертлявый!.. Язви его!.. Гляди, гляди, как щелкает! — восхищался старый горный волк Парфенов.
Однако на четвертом метре, еще не закрепленном деревом, начальник запросил пардона, крикнув: «Подавай!» Когда его извлекли на свет божий, мы увидели бледное лицо, оживленное блестящими глазами, а потом — молоток и куртку в кровавых брызгах.
— Ну что?! Как?! Не укусили? — набросились мы на храбреца.
— Да ничего! Как видите... Не съели... И, кажется, не укусили.
Он опустился на копок и попросил папиросу. Я удивился, потому что помню, начальник говорил, что бросил курить при поступлении на службу в Геолком, т. е. три года тому назад.
В глазах казахов, столпившихся около инженера, я видел такое любопытство и такую пугливую почтительность, будто перед ними сидел не он, а Магомет, пришедший из Медины.
Начальник зарисовал шурф по образцам пород в отвалах и по указанию десятника, а потом приказал закрыть дыру и проходить канавы, пока мы будем обследовать южную пустынную часть района.
2025-02-21 14:23:53
— А вдруг наткнулся на Баранкула!.. — тревожится начальник.
Проходит еще напряженный час, и с запада доносится протяжный гортанный крик... другой, третий. Из мелкосопочника выныривает всадник на вороном коне. Черная рубаха, сиреневая шапка... Баймуханов!
Конвоир несется во весь дух, будто за ним погоня.
— Вода!.. — орет он, размахивая над головой нагайкой. Баймуханов нашел колодец, но не на юге, а к юго-западу от нас.
Солнце заходило за волнистый горизонт Голодных сопок. Приободрившиеся кони подтянули возы к большому логу, где в солонцеватом пухлом суглинке торчали кусты реденького чия, зеленоватые клочки травы и чернело отверстие колодца.
Я кинулся к воде и с маху зачерпнул полную фуражку зеленовато-мутной жижи.
— Не пей! Сначала чистим! — крикнул Баймуханов, но я глотал и ничего не соображал и только на пятом или шестом глотке почувствовал противный запах тухлого яйца.
— За ведра, за лопаты! — скомандовал начальник, выдернув у меня фуражку.
Джуматай и Баймуханов принялись за чистку. Первое ведро принесло внутренности какого-то животного, второе — дохлых полевых мышей, третье — обрывки кошм, четвертое... Каждое ведро приносило какую-либо дрянь, от которой морщились даже привычные Джуматай и Баймуханов. Я равнодушно глядел на эту дрянь и думал, когда мне разрешат напиться вволю.
После чистки ждали, пока наберется свежая вода, и все же пришлось опять вычерпывать, потому что кони отворачивались и от этой воды.
Мы долго шли, потом сварили двухдневный рацион вяленой баранины и, когда наелись, снова пили.
Утомленные и опившиеся так, что булькало в желудках, улеглись, плюнув на караулы, спали крепко и проснулись от ярких солнечных лучей, бивших прямо в голову.
2025-02-21 14:24:32
Я кинулся назад, подавая сигнал тревоги отставшему обозу. Подводы стали. Баймуханов выдернул винтовку и, вскочив на Вороного, помчался к перевалу. Я с карабином пустился на другой пристяжке вслед.
Когда выкатили на перевал, караван уже был в панике: верблюды то сбирались в кучки, то расходились, а конники метались около по красной лысине.
Я обернулся и увидел, как к перевалу тяжело бежал с «джонсонкой» начальник в кальсонах, без фуражки, спотыкаясь и закладывая в ружье патрон.
— Вперед! — крикнул Баймуханов и, подняв винтовку, рванулся к красной лысине.
Что за чудеса!.. На верблюдах — домашний скарб, женщины в белых паранджах, ребятишки... Верховые слезают с коней, пешие становятся на колени.
Оказалось, что это мирный большой аул, перекочевывавший с Чу на Кзыл-Карган. Он пострадал в горах Аиртау, синевших на горизонте за южной рамкой карты. Бандиты отняли скотину, оставив верблюдов и четырех коней как средства передвижения и трех коз — на молоко детишкам. Казахи приняли нас за бандитов, а Баймуханова — за Баранкула и собирались умолять не отнимать последнюю скотину.
Мы раздали ребятишкам остатки баурсаков, угостили мужчин папиросами, носваем и, распростившись, повернули к остроконечной высокой сопке Кара-Чеку на Ташкентско-Акмолинском тракте.
2025-02-21 14:25:01
Я укрепил свечу в фонарь, задвинул красное стекло и только приготовился окунуть негатив в кювету с проявителем, как за палаткой чиркнули спичкой и послышался сердитый голос Баймуханова. Мне показалось, что на стенке входа, освещенной тусклым красным светом, шевельнулась уродливая тень, а по коробке негативов поползло живое существо. Я потянул коробку к фонарю и в этот миг в кювету шлепнулся длинноногий волосатый паучище.
Знобящий холодок испуга и отвращения откинул меня назад, и все полетело к черту: фонарь, растворы, стекла... Вероятно, я толкнул коленями планшет.
— Кто там? — встревожился проснувшийся начальник.
— Фаланги! — крикнул я.
Яркий сноп фонарика, вспыхнувший в руке начальника, осветил палатку, и мы увидели фаланг, которые передвигались по потолку, прыгали по стенкам, бросались вниз...
За палаткой вопил Джуматай, ругался Баймуханов — видимо, и там были непрошенные гости.
Нашествие фаланг обошлось нам дорого. Во-первых, пропали негативы с ценными сюжетами, а во-вторых, пришлось вытряхивать все вещи из палаток и переставляться на другое место, ближе к речке.
Уже светало, когда я, широко откинув полог, улегся на кошму у ног начальника.
Я глядел на бледно-зеленоватый треугольник входа, в котором чернели могилы Аманбая, прислушивался к журчанью речки на мелком перекате, дремал и вздрагивал, приходя в себя.
Кто-то тяжело вздохнул перед палаткой. Я открыл глаза. В золотисто-розоватом треугольнике стоял отец в старой форменной фуражке, опершись на желтовато-белое сосновое весло...
— Отец! — крикнул я, не веря своим глазам. — Откуда ты?
Не знаю, спал ли я, а может, бодрствовал, но мираж покинутой далекой родины был так отчетлив, так реален, что позади отца увидел лодку, на которой мы рыбачили по Западной Двине, сети на скамейке и на корме — отцовскую жестяную коробку из-под «Ландрина» с самосадом.
2025-02-21 14:25:52
Я спустился к островку, и ... какое счастье! Блеснула струйка ручейка, а повыше — поверхность водоемчика на ступени крутого обрыва. Водоемчик оказался настолько мал, что предстояло пить по очереди, но зато с удобством — как из ведра, поставленного на колоду. Я соскочил на землю и сунулся к источнику, но не тут-то было. Игрень бесцеремонно отпихнул меня, наступив при этом на ногу. Пришлось зачерпнуть воды фуражкой и пить, зажав в ней дыры пальцами.
После водопоя Игрень с ожесточением принялся за траву, а я, пожевав баурсаков, пошел поглядеть на необычайную могилу, да кстати и сориентироваться, куда меня занесла охота, потому что на карте не значилось никаких могил и родников.
Могила была сильно повреждена людьми и временем. Зубцы на стенах призмы округлились, ребра сгладились, а в проеме входа, заложенного сырцовым кирпичом, зияла брешь, через которую я пролез в могилу. Благодаря солнечным лучам, проникавшим через отверстие верхней части конуса, внутри было светло. Посредине возвышалось глинобитное надгробие в виде четырехгранной плоской призмы. На длинном боку ее, от земли до крыши, чернела дыра, ощерившаяся остатками каркаса из тонких березовых стволов.
Я швырнул вглубь обломок кирпича. В ответ раздался глухой стук, потом послышалось шипение, щелканье... Гадюка, а может, ночная птица пряталась в потемках. Копаться в могиле из пустого любопытства я не решился и поворотил назад. Какой знатный человек успокоился под этим монументом и почему похоронен здесь в пустынном мелкосопочнике?
Могила стояла на площадке над руслом лога, по которому тянулись узкие промоины — овражки. Чтобы засечь могилу, надо было подняться на борт лога и разглядеть в бинокль ориентиры. Я махнул через овражек, но сорвался и сполз на дно. В обсыпавшемся светло-буроватом суглинке мое внимание привлекло белое пятно.
«Не иначе, как обломок мрамора,» — подумал я, склонившись, и поднял... полированный предмет, напоминавший двояковыпуклую линзу, побольше спичечной коробки. Противоположные сегменты были срезаны, и на одном на срезов виднелся овальный контур, прочерченный тончайшей темной линией, а в центре торчал неровный выступ-шейка, с которой, видимо, сорвали головку. Похоже было, что это крышка, тщательно притертая к стенкам пустотелой линзы — предмет казался легковатым для сплошного камня. Что за штука? И тут я вспомнил овальную роговую табакерку, которую когда-то стащил у деда, потом — чиханье, слезы и взбучку за рассыпанный табак. В самом деле, каменная табакерка! Я потряс ее, но никакого звука! Пустая, а может быть, доверху набита табаком?
Открыть коробочку не представлялось никакой возможности. Попробовал концом ножа. Ничего не вышло — осталась лишь царапина. Острый край шейки чуть-чуть просвечивал зеленым цветом. Что в табакерке и кто, когда и при каких обстоятельствах обронил ее у подножия могилы — вот вопросы, которые я задавал себе, когда возвращался к роднику.
Игрень встретил меня тихим ржанием, но стриг ушами, подняв голову, словно кого-то чуял в сопках. Я подтянул подпруги, и, когда вскочил в седло, конь опять насторожился. Что за чертовщина!
Я повернул на север — к Сарысу. Солнце стояло уже над краем Шоуль-Адыра, и ветер заметно стих. На мелкосопочнике лежали причудливые тени. Копки на западе — на вершинах сопок — выдавались резко. Казалось, это не столбы из камня, поставленные неизвестно чьей рукой, а люди — всадники, следившие за моим маршрутом.
Вот на гребне длинной сопки четверка странно сближенных копков. «Зачем поставили их в ряд?» — подумал я и провел биноклем, ощупал склоны. Что за наваждение! Никаких копков! Куда они девались?
Когда подъехал к пустому гребню, меня словно кто-то дернул в сторону. Здравствуйте! Направо рядом два копка, которых раньше не было! Я посмотрел налево и там... два копка, но ближе, — не далее полукилометра! Один зашевелился... Ба! Верховые! Я прильнул к биноклю.
Это были казахи в малахаях и черных ватниках. Они глядели на меня, приподнявшись на стременах, и выставляли ружья. «Наконец-то, баранкуловские молодцы!.. — кольнуло в голову. — Следят за мной...»
2025-02-21 14:26:17
Передние конники скользнули вниз, потом махнули задним, дескать: «Подождите!» — и, вскинув ружья, покатили по подножию, чуть наискосок, ко мне — по-видимому, охватывали с фланга.
Вот уже хорошо видны фигуры. Я различаю лица, снаряжение, одежду. Слева — высокий, черноусый, хищный. Справа — низкорослый, белокурый, круглолицый.
Ружья наготове...
Еще пять-шесть десятков метров, и казахи осадили коней. Потом закричали, перебивая один другого, и я скорее догадался, чем понял, что верховые спрашивают, что я за человек, откуда и куда еду.
— Кто вы такие?! — гаркнул я, остановившись.
Из ответных криков и энергичного махания на вершину сопки, где стояли два верховых, можно было догадаться, что там начальник, который разберет, что и как.
— Аксакал! Толмач! Айда! — понуждали меня казахи, наставляя ружья, — вероятно, не замечая револьвера, который я прижимал к луке седла.
А ружья были дрянь — я хорошо рассмотрел их, когда казахи кипятились. Обшарпанная короткоствольная «джонсонка» и перевязанный ремешками дряхлый дробовик, из которого, надо полагать, стреляли еще при Кенесары Касымове (Кенесары Касымов — хан, возглавивший в 1840-х гг. движение феодальной знати против присоединения к России. Можно было соглашаться на конвой с винтовками, но — с подобной дрянью!..
— Айда! — решительно скомандовал я, подняв наган и выразительно мотнув головой на дальних верховых.
Казахи круто повернули коней и, не оглядываясь, помчались к сопке. Потом, распивая чай в палатке, они признались, что их смутил, как только я подъехал, не один наган, но и мой военный облик, бинокль и красивый рослый конь. Подумали — «бас-урус-комиссар» (Бас-урус-комиссар — главный русский комиссар).
«Чем кончится вся эта история?» — напряженно думал я, поглядывая на вершину, с которой уже спускались два конника.
2025-02-21 14:26:44
— Аман! Здравствуйте! — бросил он, ощупав меня с головы до ног пытливым властным взглядом.
— Здравствуйте! — ответил я, проведя наганом по гриве Игреня.
— Кто вы такой?
— Инженер... руду ищу, — указал я на молоток, висевший у седла.
— А мы думали вор, бандит!.. Потому что непонятно, зачем одинокий верховой путается в Голодных сопках!
Я узнал (аксакал с акцентом, по свободно говорил по-русски), что казахи заметили меня давно, очевидно, когда я гонялся за архаром. Они проследили «вора» до могилы и решили накрыть его у родника.
Оказалось, что это «комиссия», которая спешит на Чу, на пограничный съезд по разбору баранты (Баранта — угон, а чаще всего, вооруженный грабеж скота) между Сыр-Дарьинской, Акмолинской и Тургайской областями.
— И не боитесь нарваться на шайку Баранкула?
— Султан Алтынов не боится Баранкула!.. — вспыхнул аксакал. — А на всякий случай... — и выдернул из-за голенища длинноствольный маузер, блеснувший темно-синей сталью, — гостинец, почище вашего нагана, да пожалуй, и баранкуловских обрезов.
«Экс-султан с маузером! Вот так фокус!» Я успокоил собеседника, согласившись, что маузер действительно «почище» — почти винтовка.
Когда аксакал узнал, что я возвращаюсь к палаткам на Сарысу, просиявши заявил, что было бы с его стороны большой бестактностью ехать мимо лагеря и не нанести визит русским инженерам. Я было заикнулся, что это совсем не по пути — надо делать крюк в 10—15 километров. «Четыре гостя! Самим жрать нечего!» Но аксакал возразил с очаровательной улыбкой, что какие-нибудь 10—15 километров в сторону — это такие пустяки для степных казахов, что и говорить не стоит.
«Езжайте! Веселей будет по дороге в лагерь. Бывшие султаны не так уж часты в глухой степи!» — утешил я себя.
Беседа по дороге в лагерь вертелась сначала вокруг съезда и похождений Баранкула. Съезд, как я узнал, привлекал казахов не столько разбором претензий пострадавших, сколько последеловой шумихой и весельем: пирами, скачками, борьбой, за которыми забывались взаимные обиды. После съезда все начиналось сызнова.
Потом разговор перекинулся на наши поиски и старинные разработки руд. Аксакал проявил необычайную осведомленность в металлах и минералах и даже употребил несколько специальных терминов. На мое недоумение султан ответил, что он прошел курс гимназии, долго путешествовал и на своем веку прочел немало книг.
Когда мы подъезжали к лагерю, послышалось радостное ржанье Гнедого, соскучившегося по Игреню. Джуматай спал под телегой с коробом, раскинув руки, рядом лежал мой карабин, а у потухшего костра стояло ведро с холодной затирухой.
Я усадил гостя в глубине палатки, и старик, сняв роскошный малахай, надел феску из белого сукна, украшенную красной кисточкой.
— Это в знак того, что я посетил Мекку, — сказал он, заметив мой удивленный взгляд.
2025-02-21 14:27:08
Джуматай так обрадовался землякам, что через полчаса уже наливал горячую затируху в деревянное кисе, которое подхватил «черноусый» и передал мне, а я поднес султану. Потом я подсовывал ему самые крупные и наименее грязные баурсаки и выуживал из ведра наилучшие экземпляры воблы — словом, все шло по степному этикету.
Вероятно, казахи ехали со скудными запасами, потому что ели так, что «трещало за ушами», и, опорожнив ведро, принялись за чай, за которым кончили последний мешочек баурсаков, который Джуматай припрятал для начальника и Баймуханова.
После чая старик вытащил из жилетного кармашка маленький флакончик с зеленоватым порошком и предложил мне заложить носвай (Носвай — нюхательный табак). И тут я вспомнил про находку.
— Вот где замечательный носвай! — предложил я гостю полированную линзу. — Если откроете, то так и быть, заложим вместе.
— Белокаменная табакерка!.. — удивился гость — Откуда раздобыли?!
— Нашел у подножия могилы, где вы собирались меня накрыть...
— Могилы?!.. — изумился аксакал. — Не может быть! И тут я рассказал историю находки.
— А что, если не табак внутри? — спросил старик, понизив голос.
— А что же больше?
— Золото или, скажем... драгоценный камень... — прошептал султан, как будто могли услышать джигиты, беседовавшие за палаткой с Джуматаем.
— Драгоценный камень? Вы шутите!
— Нисколько! Слыхали об Амурасане?
— Джунгарский хан, который воевал с Китаем за независимость?
— Который после разгрома бежал к сибирским казакам, с чего и начинается история табакерки... Рассказать?
— Сказки?
— Зачем сказки!.. — обиделся старик. — Правдивая история, отец рассказывал. Когда Амурасан бежал, то перед Сарысу его настигли киргизы Абулхайра (Хан Абулхайр — первый казахский хан, попросивший в 1730 г. русское подданство и выступивший за присоединение к России) и, если бы не русские казаки, случившиеся на Сарысу, пропала бы голова Амурасана и рубиновый перстень, который уже не приносил ему удачи, перешел бы на палец Абулхайра.
— А табакерка?
— Про табакерку дальше. Прошло много-много лет. И вдруг пронесся слух, что красный талисман Амурасана объявился на руке Султангазы — внука первого джигита Абулхайра, того самого джигита, который настиг Амурасана на Сарысу. Как попал перстень в род Султангазы, осталось тайной. Одни говорили, что Амурасан подарил рубин командиру казачьей сотни, который полюбил сестру деда Султангазы, другие же — что первый джигит Абулхайра продал совесть за драгоценный камень и пропустил Амурасана к казакам. Перстень объявился, когда хан Кенесары поднимал народ против русских, надвигавшихся с Иртышской линии, и Султангазы сделался любимцем хана. Вот тогда дед мой, кочевавший под Бугалами, и повстречался с Султангазы и угощался из его белокаменной табакерки. Когда последние аскеры (Аскеры — солдаты). Кенесары уходили в забалхашские пески, за обладателем рубина была наряжена погоня из его врагов. Султангазы бежал мимо могилы предков, где вы подняли табакерку, и спустился в лог проститься с дедами, как слышит сверху — кричат аскеры, оставшиеся на карауле. «Погоня!» Тогда он, сдернув перстень с пальца, сунул его в табакерку под носвай и бросился из лога — так рассказывал его товарищ, который остался цел. Султангазы исчез без следа. Куда девалась табакерка с перстнем? Бросил ее в могилу или сунул за голенище и потерял потом? И вот теперь...
2025-02-21 14:27:33
— Думаете, теперь нашлась?.. Ну что же, давайте вскроем, и что окажется внутри, поделим пополам!
Я попытался еще раз поддеть крышку концом ножа — напрасно!.. Нагрел свечой наружный край линзы — не помогло. Решили разбить табакерку. Я положил ее на десятифунтовую железную балду, которой разбивали большие камни, и, направив острие зубила на верхний край коробочки — нижний край придерживал аксакал, — тюкнул молотком. Видимо, я не рассчитал удара. Табакерка, хрустнув, развалилась на куски. Увы!.. Ни золота и ни рубина, а какое-то коричневое ноздревато-губчатое вещество на стенках, которое, когда мы соскребли ножом, даже не запахло табаком.
Султан смутился и, высунувшись из палатки и взглянув на солнце, крикнул джигитам седлать коней.
Солнце заходило за Джаман-Тагалинские порфировые сопки, ветра не было, и на степи лежали непомерно вытянутые тени. Возле иноходца почтительно стояли Джуматай и «черноусый».
Когда высокий гость поднес ногу к посеребренному стремени, я поддержал его под левое, а «черноусый» — под правое плечо. Легко поднявшись на седло, старик тронул повод, но потом, пригнувшись к гриве Чалого, повернулся в мою сторону.
— Дайте мне на память осколок табакерки... — попросил он тихим голосом.
К ночи вернулись голодные начальник и Баймуханов, которых мы ожидали к вечеру завтрашнего дня, и мне здорово влетело за съеденные баурсаки.
Утром я рассказал о происшествиях, утаив про табакерку. Баймуханов заявил, что о султане Алтынове никто в районе не слыхал, и аксакала, подобного описанному мной, никогда не видывал. Тут мне еще раз влетело за привечивание «бог знает каких людей, может быть, бандитов, которые, наконец, ограбят лагерь».
После завтрака начальник чуть-чуть отмяк, и я, показав ему осколок табакерки, спросил, из какого камня она вырезана.
Начальник повертел, попробовал ножом, посмотрел на свет прозрачный край обломка.
— Монгольский пагодит! — удивился он. — Самый лучший фигурный камень в мире! Где нашли?!
И я рассказал начальнику всю историю белой табакерки, которую поведал мне Алтынов.
2025-02-21 14:28:26
Сегодня свалились нежданные гостинцы.
Проезжавшие по тракту на двух подводах русские поселенцы со Спасского завода заметили палатки на Сарысу и, хотя до нас не менее 5 верст, завернули покалякать с инженерами.
— Уж больно скучаем по Расее... — признались они.
Мы этому легко поверили, потому что земляки, развязав большой мешок, вытащили оттуда два спелых арбуза и десяток свежих огурцов и поднесли нам.
— А разве не Россия здесь? — спросили мы.
— Какая ж тут Расея!? Ни кустика, ни настоящей травки, ни воды!
И пошли, пошли...
Начальник велел напоить гостей чаем и, вытащив из-под заветного замочка мешочек с сахаром, дал всем по кусочку, в том числе мне и Баймуханову.
Чего только мы ни наслушались от земляков за два часа их пребывания. Вот, к примеру, такой, как они выразились, «хвакт». Шел по тракту прошлым летом большой обоз переселенцев из Акмолы в Верный. И вот, на спуске к Моинты выскочила из-за сопок шайка в 40 человек. Переселенцы стали защищаться, и в результате перестрелки барантачи потеряли двух убитыми. Наутро прискакал дозорный и сообщил, что движется целая орда. Переселенцев вскоре окружило кольцо вооруженных верховых, человек 200, которые потребовали за убитых 200 голов крупного скота. Переселенцы отказали, потому что такого количества скота в обозе не было. Тогда, согласно своему закону, барантачи потребовали за двух убитых двух русских. Долго торговались, и к вечеру второго дня переселенцы сдались. Куда деваться! Кругом глухие сопки на сотни верст! И выдали двух дедов: одного слепого, а другого немого. Киргизы забрали их и тут же скрылись.
2025-02-27 10:12:49
2025-05-04 02:38:14
https://archive.org/details/bmk-brz_20201104_1155
2025-05-05 02:37:04
В Ростовской области наконец то демонтировали памятник коллаборационисту Краснову, который в годы Великой Отечественной Войны прислуживал нацистам. Это позорище стояло в Ростовской области с нулевых годов. И лишь в преддверии 80-й годовщины Победы его удосужились убрать. Можно поблагодарить общественников, а также сотрудников ФСБ, которые довели это дело до конца.
Героизация любых пособников нацистов в России недопустима. Особенно, когда страна ведет войну с современным украинским и европейским нацизмом. Когда у нас начинают рассуждать о неоднозначности отдельных нацистов или их пособников, мы размываем собственный исторический фундамент. Тем более, когда их пытались у нас героизировать. Наши враги этим разумеется пользуются, резонно указывая - чего это вы ругаете наших пособников Гитлера, если у вас самих такое же есть. Вот это самое "такое же есть" надо выжигать каленым железом. Это вопросы исторического выживания общества и государства.
Чуть ранее усилиями сотрудников ФСБ был закрыт и музей посвященный предателю Краснову.
2025-07-30 09:51:27
Вспомним знаменитый роман «Эра милосердия» братьев Вайнеров и снятый по нему культовый фильм «Место встречи изменить нельзя», где герой Евгения Евстигнеева, уличенный в краже шубы вор Ручечник, бросает реплику Жеглову: «Указ семь-восемь шьешь, начальник?»
Какое это имеет отношение к «Закону от трех колосках»? Дело в том, что «Закон о колосках» и «Указ семь-восемь» — неофициальные наименования одного и того же документа — Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».
Но как вор-рецидивист Ручечник оказался «в одной лодке» с простыми крестьянами?
В июле 1932 года глава СССР Иосиф Сталин написал записку, адресованную Лазарю Кагановичу и Вячеславу Молотову. Там, в частности, говорилось: «. за последнее время участились, во-первых, хищения грузов на желдортранспорте (расхищают на десятки мил. руб.), во-вторых, хищения кооперативного и колхозного имущества. Хищения организуются главным образом кулаками (раскулаченными) и другими антиобщественными элементами, старающимися расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают два-три года тюрьмы (формально!), а на деле через 6-8 месяцев амнистируются. Терпеть дальше такое положение немыслимо».
Еще один литературный персонаж — подпольный миллионер Корейко из «Золотого теленка», сколотившего капитал на масштабных хищениях собственности в условиях советской власти. Ильф и Петров не выдумали его на пустом месте. К началу 1930-х годов масштаб хищений государственной собственности достиг таких величин, что напрямую угрожал экономическому и социальному положению в стране. При этом люди, похитившие миллионы рублей, с точки зрения закона не отличались от человека, укравшего, например, кусок хлеба и получали мягкие наказания. Что, конечно, не могло испугать потенциального расхитителя.
Удивительным сейчас кажется и то, что еще в одной из документов, положивших начало «указу семь-восемь», шла речь о зарубежном опыте.
Из записки Сталина Кагановичу и Молотову от 24 июля 1932 года: «Капитализм не мог бы разбить феодализм, он не развился бы и не окреп, если бы не объявил принцип частной собственности основой капиталистического общества, если бы он не сделал частную собственность священной собственностью, нарушение интересов которой строжайше. Социализм не сможет добить и похоронить капиталистические элементы и индивидуально-рваческие привычки, навыки, традиции (служащие основой воровства), расшатывающие основы нового общества, если он не объявит общественную собственность (кооперативную, колхозную, государственную) священной и неприкосновенной».
7 августа 1932 года выходит Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».
Согласно ему, за хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте вводится «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества». Также Постановление предписывает «применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь».
Также указывается, что лица, попавшие под действие указа, не подлежат амнистии.
2025-07-30 09:54:06
«Один парень был осуждён по декрету 7 августа за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в овине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросёнку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросёнок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить за беспокойство к 10 годам лишения свободы».
Особенно интересно, что этот случай в качестве вопиющего нарушения приводит не кто-либо из современных исследователей, а знаменитый сталинский прокурор Андрей Вышинский в своей брошюре «Революционная законность на современном этапе», выпущенной в 1933 году.
А в издании «Советская юстиция» в 1934 году приводится целый ряд аналогичных случаев применения «Закона о колосках»:
«Учётчик колхоза Алексеенко за небрежное отношение к с.-х. инвентарю, что выразилось в частичном оставлении инвентаря после ремонта под открытым небом, приговорён нарсудом по закону 7/ VIII 1932 г. к 10 г. л/с. При этом по делу совершенно не установлено, чтобы инвентарь получил полную или частичную негодность.
Служитель религиозного культа Помазков, 78 л., поднялся на колокольню для того, чтобы смести снег, и обнаружил там 2 мешка кукурузы, о чём немедленно заявил в сельсовет. Последний направил для проверки людей, которые обнаружили ещё мешок пшеницы. Нарсуд Каменского р-на 8/II 1933 г. приговорил Помазкова по закону 7/VIII к 10 г. л/с.
А вот и искомые «колоски»: «Нарсуд 3 уч. Шахтинского, ныне Каменского, р-на 31/III 1933 г. Приговорил колхозника Овчарова за то, что „последний набрал горсть зерна и покушал ввиду того, что был сильно голоден и истощал и не имел силы работать“. по ст. 162 УК к 2 г. л/с.»
Последнее особенно важно, потому что несчастный колхозник Овчаров был осужден не по «Указу 7-8», а по более мягкой 162-й статье. Почему? Потому что власти, получив результаты первых месяцев действия закона, поняли, что результат получается не тот, на который рассчитывали. Действие Постановления начинают корректировать, регулируя правоприменительную практику. В феврале и марте 1933 года выходят нормативно-правовые акты, требующие прекратить практику привлечения к суду по «закону от 7 августа» лиц, виновных «в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по несознательности и при наличии других смягчающих обстоятельств».
Та же «Советская юстиция» случай колхозника Овчарова рассматривает как грубейшее нарушение — не заслуживал он и двух лет лишения свободы.
Однако правоприменительная практика продолжала оставаться неудовлетворительной. Андрей Вышинский, ставший прокурором СССР, в конце 1935 года обращается в ЦК, СНК и ЦИК с запиской, в которой добивается масштабного пересмотра дел лиц, ранее осужденных по «Закону о колосках».
2025-07-30 09:55:15
16 января 1936 выходит постановление ЦИК и СНК СССР, согласно которому Верховному суду, Прокуратуре и НКВД поручалось проверить правильность применения постановления от 7 августа в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 года.
Но вернемся к вопросу, заданному в самом начале — причем здесь вор Ручечник?
Вспомним, что говорил Глеб Жеглов: «Но сегодня вышла у вас промашка совершенно ужасная, и дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили. Вещь-то вы взяли у жены английского дипломата. И по действующим соглашениям, стоимость норковой шубки тысчонок под сто — всего-то навсего — должен был бы им выплатить Большой театр, то есть государственное учреждение».
Ручечник специализировался на кражах личного имущества, и за подобное, как уже говорилось, в СССР карали не так, чтобы уж слишком строго. А вот кража шубы супруги английского дипломата приравнивалась к хищению государственной собственности, и матерый вор неожиданно для себя угодил под тот самый «Указ 7-8», который в послевоенное время применялся нечасто, но продолжал действовать.
Утратил силу «Закон от трех колосках» в 1947 году, в связи с принятием указа «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
Николай Стариков
2025-08-02 04:19:47
https://dzen.ru/a/Z7GmcB-MVUWCzFew
2025-08-02 04:20:20
https://dzen.ru/a/aCM-R2QrVzebHzFH
2025-08-02 04:21:55
https://dzen.ru/a/aIT2xA2U_3GjHx71
2025-08-02 04:22:42
Дело было в 1970-х годах, когда Советский Союз активно искал технологии для модернизации своей промышленности. Особый интерес вызывала японская корпорация Sony с ее революционными разработками в области электроники. Приглашение основателю компании было направлено на самом высоком уровне.
Перед поездкой друзья предупреждали Мориту с женой о «примитивных условиях жизни» в СССР и советовали взять с собой бутылки с водой, полотенца и туалетную бумагу. Но эти предосторожности естественно оказались излишними. Морита прибыл в Москву, и с первых минут стало ясно — гостей принимают особо. Правительственный автомобиль подъехал прямо к самолету, персональные переводчики не оставляли их ни на минуту, таможенные формальности были отменены.
Заместитель председателя Госкомитета по науке и технике Джермен Гвишиани лично сопровождал делегацию по предприятиям Москвы и Ленинграда, демонстрируя достижения советской электронной промышленности. Но то, что увидел Морита на заводах, его не впечатлило. По его словам, советские предприятия отставали от Японии и Запада в области электроники на 8-10 лет. Использовались примитивные инструменты и неэффективные производственные процессы. Главное же — японский предприниматель заметил полное безразличие рабочих и руководства к качеству продукции. Никто не был заинтересован в совершенствовании технологий. В стране, где не было конкуренции, отсутствовали стимулы для инноваций.
В финале визита Гвишиани сделал заманчивое предложение о сотрудничестве, подчеркнув преимущества советской экономики: отсутствие инфляции, низкие зарплаты, стабильная рабочая сила. Когда он попросил Мориту высказать свое мнение, японец был предельно откровенен. Он объяснил, что в Японии тратят годы на совершенствование даже таких простых вещей, как отвертка, проводят детальные исследования температурных режимов для пайки, а в СССР из-за коммунистической идеологии, противоречащей самой сути бизнеса, якобы никто из работников не заинтересован в результатах своего труда.
«Вы здесь не прилагаете таких усилий; по-видимому, в этом здесь нет нужды, потому что никто, кажется, не заинтересован. <...> Я должен сказать вам, что я бы не перенес, если бы увидел, что продукция Sony производится в таких условиях, как здесь у вас. Я не могу предложить вам пока нашу технологию», - пересказал диалог Морита в своей книге.
Показательным для японца стал момент демонстрации советского черно-белого телевизора, который планировали экспортировать в Европу. Морита был поражен примитивностью дизайна в стране великого искусства и балета.
Когда он спросил, почему не объединяются технологии и эстетика, представитель Министерства связи честно ответил: «Искусство не по нашей части!» Этот ответ стал для Мориты приговором советской промышленности.
По мнению Мориты, в Советском Союзе развитие техники было сосредоточено в космических и военных программах, но совершенно не касалось потребительских товаров. Там, где речь шла о населении, дизайн и качество техники серьезно отставали. Sony готова была продавать СССР готовое радиооборудование и даже предложила техническую помощь в улучшении советского телевизора. Но передача ключевых технологий по лицензии, особенно революционной системы Trinitron, была категорически исключена. К слову, эта позиция касалась не только Советского Союза, но и Китая, которому японцы в то время также не раскрывали своих технологий, отказываясь от сотрудничества.
Решающим фактором, судя по всему, стал опыт итальянской компании Fiat. В книге Морита сослался на то, как итальянцы передали СССР технологии производства автомобилей, после чего в Европе появились машины, внешне копирующие Fiat, но, по его мнению, значительно уступающие по качеству. «Репутация компании Fiat из-за этого пострадала, и мы не хотим, чтобы такая же судьба постигла нас», — заявил основатель Sony.
2025-08-03 05:16:47
https://dzen.ru/a/aI2-0MBy_SSJGDcQ